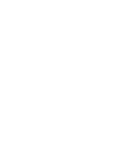Будущее театра зависит от уровня свободы: интервью с критиком Павлом Рудневым

Ежегодно Калининградский областной драматический театр проводит конкурс сценического мастерства «Свое лицо». На этот раз экспертам успели представить пять новинок сезона. «Новый Калининград» поговорил с театральным критиком, помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова Павлом Рудневым о пытливости провинциального искусства, свободных легких художника и о том, как запреты превращаются в желание говорить на болезненные темы другими способами.
— Вы успели посмотреть пять премьер этого сезона. Как оцените калининградский уровень?
— Я знаю только один театр в этой области, трудно говорить за всех. Нам показали и то, что театр считает, наверное, своим свершением, и повседневность театрального опыта — то, из чего состоит рядовой репертуар. Всякий раз думаешь про устройство, например, Московского Художественного театра. Первый его спектакль был удачным, потом шесть полуудач и даже провалов, потом «Чайка». А между ней и «На дне» — еще одним шедевром МХТ — тоже целый ряд чего-то неудачного.
В любом театре есть хорошие артисты, и здесь они, безусловно, существуют. Думаю, очевидно, что труппа распадается на людей старшего возраста и младших. Между ними могут возникнуть как трения, так и диалог, но важно, чтобы в театре не существовало группок: есть спектакли для одних артистов, есть для других. Это всегда плачевно заканчивается. Понятно, что самые плоские и простые спектакли вызывают максимум зрительского восторга, а сложные — чуть меньше, но видно, что Калининградский театр драмы пытается измениться, пойти навстречу другому зрителю, предложить какую-то альтернативу. Театр хочет заиметь новую «кожу», не утратив старой. Вопрос в возможности играть спектакли для разных групп населения.
Часто проблема российского репертуарного театра в его инертности: публика ходит и ходит, и театр делает для нее устойчивый безрисковый продукт, но одна группа населения не исчерпывает всего общества. Мне кажется, пестрота афиши современного репертуарного театра — гарантия того, что придет как можно больше людей из разных «племен» и городских групп. Необходимо усиление разнообразия, а уже дальше люди, которые приходят в кассу, разберутся, в какую сторону им идти. Свой театр надо искать.
— Чем сегодня отличается театр в провинции от столичного?
— В общем, ничем, кроме бюджетов. Эстетически — ничем. В Москве много плохих театров и некоторое количество хороших. И в регионах все то же самое. Хотя в провинции есть меньшая пресыщенность и большая пытливость, по крайней мере, в некоторых городах, за все не скажу. При этом часть городов живет в культурной изоляции, мы должны в этом признаться. Это очевидно, потому что страна огромная и возможности для распространения культуры не так сильны. А ситуация с бюджетом существенная, конечно. Разница бюджетов сказывается не только на визуальной картине — на том, что стоит на сцене и во что одеты артисты. Бюджет влияет на дефицит специалистов. Сегодня самая сложная задача для регионального театра — найти световика, звуковика, заведующего постановочной частью, художника, сценографа, видеодизайнера… Все эти профессии как бы технические, но на самом деле предельно творческие, вот они наиболее дефицитные. Их очень тяжело находить, воспитывать и выращивать. Любая поездка на повышение квалификации в столицу приводит к утрате специалиста. А театр все больше технически усложняется, он не может не реагировать на технические новшества, на увеличение зависимости от техники. Все это требует новых мозгов и, честно говоря, инвестиций в местное локальное образование. Я очень рад появлению филиала РГИСИ (Российского государственного института сценических искусств — прим. «Нового Калининграда») в вашем городе, это может улучшить ситуации, хотя и понимаю все риски.
— При этом вы отмечаете, что публика лучше реагировала на спектакли попроще. В связи с этим основной репертуар зачастую держится на постановках, не ищущих свой художественный язык, а существующих исключительно как некая форма для текста. Как театру выбраться из этого замкнутого круга?
— Тут не надо никого осуждать. Мне кажется важным, чтобы репертуар не был единым, а состоял из сегментов, адресованных разным людям. Единство художественного впечатления ни один из жанров не может обеспечить. В театр приходят люди с очень разным культурным багажом, у них разные предумышленные представления, которые сложно разрушать. Думаю, вопрос в сочетании — что-то должно театр «кормить», а что-то — фрахтовать новых зрителей. И одно ни в коем случае не должно подавлять другое, но в уме надо держать несколько линий. В федеральных театрах это обеспечивается наличием нескольких сцен, когда есть большая площадка, которая «кормит» театр, на ней могут идти зрительские хиты, и есть малые сцены, направленные на поиск решений, которые чуть позже станут массовыми. Любое подвальное искусство рано или поздно становится массовым — это известный факт.
— Может один театр быть одинаково хорош и в том, что мы привыкли называть традиционными постановками, и в более новаторских? Как ему сочетать все это внутри себя, за счет каких механизмов?
— Исключительно за счет творческих. Не презирать, не считать какую-то из ветвей заранее убыточной или нехудожественной. Всякий раз искать, чего не хватает. Чтобы оценить уровень развития общероссийского театра, прежде всего нужно понять, какого театра в стране нет. В чем дефицит? А если чего-то нет, значит, это надо завести. Так и здесь — нужен постоянный поиск, заполнение лакун. Сейчас, например, театрам внезапно стала очень интересна фантастика: галлюциногенные миры, видения, мистическое нечто, потустороннее, даже «ужастики». Спектакль за спектаклем и пьеса за пьесой, где эта сновидческая реальность становится очевидной. Она возникает даже в исторической теме — недавно вышли «Ленинградские сказки» (12+) в Российском молодежном театре. Это история про блокаду и Великую Отечественную войну. Она решена через видения детей, которые переживают потерю родственников, социальную драму, и рядом с конкретными историческими фактами возникают галлюцинации, трансформация реальных действий внутри сказки. Трудно сказать почему, но поворот к мистическому случился. Реальность стала менее интересной, чем сказка.
— Сейчас мы все чаще наблюдаем практику приглашения режиссеров со стороны для той или иной постановки. Что это дает театру?
— Собственно, разнообразие. Сегодня концепция театра-лаборатории, когда есть труппа, подчиненная одному мастеру, не очень выигрышная. Хочется, чтобы артисты проходили разные школы. Все режиссеры разные, плохие и хорошие, но они репетируют своими способами. И современный артист универсален в этом смысле. Если ты актер, ты должен быть гибким, ртутным по отношению к различным театральным формам. Но я бы сказал, что есть у этого и негативные стороны, потому что бесконечные приглашения превращают театр-дом в театр-гостиницу. Все равно нужно заякоряться — кто-то должен вести основную линию, «побочки» и «дочки» возможны, когда есть мейнстрим, когда театр понимает, куда двигаться. Мне кажется, самые удачные постановки возникают не с режиссером-варягом, а с тем, кто знает потенциал труппы, города, зрителя и делает спектакль с учетом этих возможностей. Режиссура — это же искусство управления тем, что передо мной. Ни один режиссер не ставит спектакль с идеальной труппой, пьесой и зрителями. Он учитывает недостатки и достоинства того, что находится перед ним. Если режиссер понимает правила игры, он добивается от артистов, публики и сцены невиданного.
— Как госзадание влияет на творческий потенциал театра?
— У финансового донора есть свои приоритеты, и им надо соответствовать. Есть дорожная карта — количество постановок, которые должен выполнить театр в течение года, количество билетов, которые должен продать, потому что это гарантирует следующий приход денег, без которых театр не может существовать. И театр должен думать о том, как это задание удовлетворить.
— Получается, проще поставить пять очень зрительских спектаклей, гарантирующих финансовый успех, и выполнить пятилетку за сезон.
— Конечно, эта проблема есть. Возникает зависимость: чем лучше театр работает, тем больше ему увеличивают госзадание. Это как требовать от человека прыгать в длину больше, чем олимпийский чемпион. В какой-то момент силы организма исчерпываются, если не давать допинга. Театр физически не может прыгнуть выше головы, потому что в году 365 дней, производственный план спектакля не может быть сокращен, нельзя выпускать постановку за пять дней. Такая гонка за совершенством вредит, потому что превращает театр в конвейер, но даже если театр будет частным, там тоже будут свои зависимости. Госзадание должно учитывать, что у театра должно быть дыхание, свободные легкие. В какой-то момент конвейер должен остановиться, чтобы люди могли сделать то, что не гарантирует результат. Сегодня очень трудно законодательно списать неполучившийся спектакль, но искусство так устроено, что никто не может гарантировать шедевр. У Льва Толстого полно незавершенных и неполучившихся текстов. Госзадание должно учитывать такую зыбкую, эфемерную природу театра. Собери самых гениальных людей в стране — режиссера, художника, артистов — и все равно может ничего не получиться. Да, должна быть система сдержек и противовесов, но госзадание не должно становиться тяглом для театра.
— Какой бы безобидной ни была постановка классики, если персонажи были не в турнюрах, в очереди в гардероб ты все равно услышишь: «Ну, это не Чехов». Почему зрители наделяют себя правом на единственно верное понимание драматурга, который жил несколько веков назад?
— Если ты что-то делаешь, ты должен предполагать, что тебя будут критиковать. Это совершенно нормальное явление, но слова не должны превращаться в форму репрессии и желание кого-то застращать. Одному нравится арбуз, другому свиной хрящик, как сказано в пьесе Островского. Занимаясь театром, я прекрасно понимаю, что любое эстетическое явление вызывает полярные оценки. Даже на фестивале «Золотая маска», которым занимались профессиональные люди и куда попасть в эксперты было не так просто, ты видел таблицу оценок, где один именитый критик ставил ноль, а другой пять. Привести в единство даже восемь человек, у которых, казалось бы, одна школа, один театроведческий факультет, невозможно. Что же говорить о тысячном зале? При этом важно не допустить, чтобы мнение одной группы населения торпедировало мнение другой. У каждого есть право на высказывание и право на свой театр.
Желание присвоить себе Островского и Гоголя возникает, потому что классика — это коллективное бессознательное. Есть ощущение, что это «наше все», то, что требует защиты: я прихожу в театр, чтобы проверить соответствие моих представлений об Островском представлениям другого человека. И если они не совпадают, то спектакль плохой, а если совпадают, то хороший, но это всегда вопрос личных ощущений. Приведу пример: когда я был студентом, только зарождалась мастерская Петра Фоменко, и мы без конца ходили на их спектакли. Постановку «Волки и овцы» — шедевр русского психологического театра — я видел восемь раз. Для меня это пример классического театра. В какой-то момент я пошел на спектакль «Волки и овцы» в Малом театре, который является цитаделью академизма и традиции гораздо в большей степени, нежели мастерская Фоменко, и для меня это уже был лютый авангард. Если человек привык к «Волкам и овцам» Фоменко, то для него «Волки и овцы» Малого театра, в котором эта пьеса и родилась, будут чем-то враждебным, не соответствующим детским представлениям.
Конечно, надо предполагать, что театр обладает интерпретационной природой, это всегда трактовка, перевод языка автора на язык того, кто создает и смотрит спектакль сегодня. В любой пьесе, которая уже написана и никогда не поменяется, есть слепые пятна, и каждая постановка пробуждает в тексте какие-то дремлющие смыслы. Точно так, как ты «Войну и мир» Льва Толстого читаешь одними глазами в 13 лет, потом в 20 обращаешь внимание на другие страницы, в 30 лет находишь новые темы… Ты растешь, и что-то для тебя закрывается, а что-то, наоборот, обретает смысл. Театр не чувствует себя служанкой литературы, он не должен обслуживать текст, он придумывает форму для существования текста сегодня. Ни у кого нет права на правильное мнение о классическом тексте. Даже у специалиста по Шекспиру и Островскому, который перечел всю литературу. Искусство так устроено, что оно порождает множественность восприятий. И когда мы идем на спектакль, мы не идем на пьесу, мы идем на ее интерпретацию конкретно этим театром. За пьесой надо идти в библиотеку.
— При этом мы регулярно слышим мнения: «Берите новую пьесу и ставьте опыты над ней, зачем трогать классику?»
— Потому что такова природа театра. Во все времена театр пересказывал чужие сюжеты, включая античных драматургов и Шекспира. Когда сегодняшний режиссер работает с классикой, он работает не только с текстом, который написан на бумаге, но и со всем тем, что «налипло» на этот текст во время его эксплуатации, со всеми предыдущими трактовками. Мы не можем сегодня читать Гоголя так, так как это делали его современники, потому что на Гоголя накладывается Достоевский, Платонов, Бродский, любой петербургский миф, даже ленинградская рок-музыка. Мы смотрим на Гоголя уже через какие-то другие миры. И режиссер, ставя пьесу, работает не столько с текстом, сколько с мифом о нем. Это необычайно интересно, потому что возникает возможность дополнить цепочку других интерпретаций своей.
Самые гениальные пьесы вариативны, они имеют массу коннотаций, и, конечно, никто не способен сформулировать, какая концепция единственно правильная, есть бесконечное количество вариаций. Театр не может быть вторичен по отношению к литературе. У него есть своя первичная, сепаратная, автономная природа. Пьеса «Маскарад» не изменится от бесконечного числа интерпретаций. Она останется такой, какой ее написал Лермонтов. Кстати, она написана им в четырех вариантах, и ни один из них не претендует на право быть единственно верным. Всякий раз, когда пьесу печатают академические издания, литературоведы спорят, какую версию признать канонической.
— Может сегодня режиссер не оглядываться на все предыдущие постановки того или иного текста?
— Мне кажется, может, но лучше так не делать, режиссер все-таки должен быть умным, образованным человеком. Понятно, что иногда лишнее знание вредит художнику, блокирует его фантазию, но нельзя не учитывать прошлое, историю интерпретаций. Тогда это будет похоже на человека, который критикует христианство и не читал Библию. Компетентно ли будет это знание? Нет, конечно. Хотя бы в общих чертах надо понимать, как развивался текст и движение театральной мысли.
В 1960-е годы Анатолий Эфрос впервые в истории русского театра ставит пьесу «Женитьба» как драму. До него ее трактовали исключительно как гоголевский водевиль, нечто легкое и веселое. Эфрос создает спектакль про одиночество и как будто меняет жанр пьесы, усложняет ее. Любой режиссер, который сегодня не учитывает этого контекста, проигрывает. Он может выиграть по отношению к публике, но проиграет по отношению к истории театра, потому что один человек уже доказал, что эта пьеса гораздо глубже. Или Генриетта Яновская в 1990-е годы делает «Грозу» Островского, где Кабаниха впервые не отрицательный персонаж. После Яновской Кабаниху уже не сыграть, как это делала Вера Пашенная в 1950-е годы — вся в черном, сама сатана, зло зловещее. Образ стал богаче, сложнее, и все сегодняшние Кабанихи — это что-то межеумочное: какие-то стороны этой женщины защищаются и оправдываются актрисами, а какие-то, наоборот, показаны как негативные.
— В этом смысле театр очень эфемерен. Каждую новую Анну Каренину в кино обязательно будут сравнивать с Татьяной Самойловой. Для массовой аудитории жизнь фильма оказывается гораздо дольше жизни спектакля. Насколько важно зрителю обладать оснащенным знанием?
— Мы не можем этого гарантировать, невозможно заставить зрителя читать оригинал перед постановкой, но у любого театра есть право просвещать. И это очень важно. У большинства театров сегодня все-таки есть лектории, кружки, дискуссии, диалоги со зрителями, лаборатории. После того, как театр стал режиссерским, после реформ Станиславского и Немировича, театр усложнился в тысячу раз, ему стоит защищать себя просвещением: объяснять, мотивировать, расшифровывать, выращивать культурного зрителя. Но при всей сложности театр ведь действует не только рациональным способом — искусство влияет на бессознательном уровне. Помимо интеллектуальных усилий есть эмпатия, чувственность. Кто-то не поймет умом, но почувствует сердцем. И любое гиперсложное искусство подействует на нас, потому что наше сердце к этому готово. Православные люди употребляют такое замечательное слово — «благоволение». Я прихожу в театр не для того, чтобы проверить на соответствие и укорить, поставить штамп ОТК, зритель — это же не товаровед. Нужно благоволение по отношению к театру. Хоть бы изначальное.
— В этой концепции зритель оказывается соавтором спектакля. Комфортно он себя чувствует в этой роли?
— Спектакль всегда складывается в диалоге. Все по Пушкину: «Публика образует драматические таланты». Реакция публики делает художника гениальным. Восторг, принятие, эмпатия зрителей дает возможность артисту показать себя с лучшей стороны. Если публика с холодным носом, то спектакль, в общем-то, заканчивается. Не возникает температуры совместного творческого действия. Поэтому опять-таки — благоволение: посмотреть, подумать, снова посмотреть и снова подумать. Зачем это нужно художнику? Зачем он использует этот прием в данную секунду? Если мне плохо в зрительном зале, больно, возможно, так и нужно? Если я вижу на сцене что-то омерзительное, например, персонаж ест, и еда вываливается у него изо рта, может быть, так и нужно, чтобы мы испытали чувство омерзения? Мы очень эгоцентрично устроенные люди, и чтобы пробраться к нам в сердце, нужно что-то сломать в нас. И артистам нужно идти не по какому-то стандарту, не по общим местам, а пытаться расковырять нашу душу. Любой театр пытается вот эту кожу броненосца пробить, дать почувствовать тебе чужую, бесконечно далекую боль как свою. А это не всегда бывает гладко, не всегда добрыми ласковыми приемами.
— Насколько свободно себя чувствует сегодняшний театр?
— Да по-разному, мне кажется, зависит от темперамента художника. Безусловно, будущее театра зависит от уровня свободы. Любые запреты превращаются в желание говорить об этом, только другими средствами. Любая цензура приводит к тому, что люди все равно упираются в стенку и начинают говорить об этом бесконечно. Потому что это их беспокоит.
— В этом плане могут ли цензура и самоцензура сделать художественный язык изобретательнее?
— Для кого-то да, но я не думаю, что для развития театра нужна цензура. Нужны свободные легкие. Когда режиссер что-то изобретает, потому что ему запретили, это развитие по вынужденному сценарию. А хочется, чтобы режиссер делал нечто в результате его духовной работы, а не попытки кого-то обмануть и в чем-то съюлить. Люди делают искусство, потому что у них что-то болит. Искусство — это вообще про боль, даже если это комедия. А если у тебя ничего не болит, это будет плохое искусство.
Можно прислушаться к Александру Островскому: «Самым вредным, самым гибельным следствием настоящей драматической цензуры для репертуара я считаю страх запрещения пьесы. Автор, в особенности начинающий, у которого запрещены одна или две пьесы без объяснения ему причин, поневоле должен всего бояться, чтобы не потерять и вперед своего труда. Пришла ему широкая мысль — он ее укорачивает; удался сильный характер — он его ослабляет; пришли в голову бойкие и веские фразы — он их сглаживает, потому что во всем этом он видит причины к запрещению, по незнанию действительной причины. Такое постоянное укорачивание, урезывание себя вредно действует на производительные способности, долго потом отзывается во всей деятельности; я говорю это по собственному опыту. Чтобы только иметь надежду видеть свои произведения на сцене, волей-неволей гонишь из головы серьезные, жизненные идеи, выбираешь задачи пообщее, сюжеты помельче, характеры побледнее. Можно сказать с полною уверенностию, что страх запрещения должно считать главной причиной бесцветности нашего репертуара».